 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.
| Ковалев Александр Григорьевич
К ПРОБЛЕМЕ ВНИМАНИЯ такого психического явления — от «направленности» до «изменения организации» психической деятельности, от «темного» кинестетического ощущения и двигательных установок до сознания в целом,— с которым не отождествляли бы внимание 1. Когда внимание отрицают вместе с другими психическими функциями, это не затрагивает его в частности. Когда же внимание отождествляют с другими психическими явлениями и процессами,, то в этом уже проступают реальные трудности проблемы внимания — невозможность выделить его как самостоятельную форму психической деятельности. Анализ этих трудностей приводит к заключению, что в основе самых разных взглядов на природу внимания лежат два кардинальных факта: 1. Внимание нигде не выступает как самостоятельный процесс. И про себя, и внешнему наблюдению оно открывается как направленность, настроенность и сосредоточенность любой психической деятельности, следовательно, только как сторона или свойство этой деятельности. 2. Внимание не имеет своего отдельного, специфического продукта. Его результатом является улучшение всякой деятельности^ к которой оно присоединяется. Между тем именно наличие характерного продукта служит главным доказательством наличия соответствующей функции (даже там, где процесс ее совсем или почти совсем неизвестен). У внимания такого продукта нет, и это более всего говорит против оценки внимания как отдельной формы психической деятельности. Нельзя отрицать значения этих фактов и правомерности вытекающего из них и столь обескураживающего вывода. Хотя у нас 1 В настоящее время за рубежом, да и у нас (об этом см. в кн.: Е. Д. X о м-ская. Мозг и активация, ч. I, гл. 3 Изд-во МГУ, 1972), начали отождествлять внимание с уровнем «бодрствования» или «активации». Но это лишь 1) подтверждает неудовлетворенность прежними попытками свести внимание к другим психическим явлениям, 2) в то же время представляет собой такую же попытку свести его на этот раз к новым, психологически почти не раскрытым сторонам психической деятельности и вместе с тем 3) означает невольное признание своего неумения расшифровать внимание в его собственном содержании. Насколько «уровень бодрствования» и степень активации сегодня известны, они соответствуют тому, что прежде называли «сознанием» и его разными степенями ясности. Отождествление внимания с ними представляет собой не что иное, как возвращение к давнему сведению внимания к «сознанию», так сказать, «на современном уровне». Поэтому к этим новым попыткам сведения внимания к чему-то, что уже не есть внимание, полностью относятся вопросы: что мы выигрываем в понимании этих процессов от того, что назовем внимание активацией или бодрствованием или, наоборот, активацию или бодрствование — вниманием? Если бы мы знали, что такое внимание или бодрствование и активация как содержательные процессы или состояния, тогда подобные «сведения» означали бы разъяснения еще неизвестного уже известным. А пока мы этого не знаем, подобные «сведения» означают лишь наличие некоего внешнего сходства между ними и ничего более; такое сходство можно найти между любыми «психическими явлениями», и это не дает ключа к содержательному пониманию ни одного из них.
Исследования «умственных действий» позволяют подойти к этому вопросу с несколько иной стороны. В результате этих исследований было установлено, что формирование умственных действий в конце концов приводит к образованию мысли, мысль же представляет собой двойное образование: мыслимое предметное содержание и собственно мышление о нем как психическое действие, обращенное на это содержание. Анализ показал далее2, что вторая часть этой диады есть не что иное, как внимание, и что это внутреннее внимание формируется из контроля за предметным содержанием действия 3. Тогда, естественно, следует вопрос: нельзя ли вообще понять внимание как функцию психического контроля? Нижеследующее изложение имело целью показать, что понимание психики как ориентировочной деятельности и знание тех изменений, которые претерпевает действие, становясь умственным, действительно открывают такую возможность и позволяют иначе и более оптимистично взглянуть на положение вещей в проблеме внимания. Понимание психики как ориентировочной деятельности означает подход к ней не со стороны «явлений сознания», а со стороны ее объективной роли в поведении4. В отличие от всякой другой психическая ориентировка предполагает образ — среды действия и самого действия,— образ, на основе которого и происходит управление действием. Управление действием на основе образа требует сопоставления задания с его исполнением. Следовательно, конт- 2 П. Я. Гальперин. Умственное действие как основа формирования мысли и образа. «Вопросы психологии», 1957, № б. 2 Это значит не то, что мысль есть внимание или что внимание есть мысль, а только следующее. В каждом человеческом действии есть ориентировочная, исполнительная и контрольная части. Когда действие становится умственным и далее меняется так, что ориентировочная часть превращается в «понимание», исполнительная — в автоматическое ассоциативное прохождение объективного содержания действия в поле сознания, а контроль —в акт обращения «я» на это содержание, то собственная активность субъекта, внутреннее внимание, сознание как акт сливаются в одно переживание; при самонаблюдении оно представляется чем-то простым и далее неразложимым, как его и описывали старые авторы. 4 Ориентировочная деятельность не ограничена познавательными процессами. Все формы психической деятельности суть разные формы ориентировки, обусловленные различием задач и средств их решения. роль составляет необходимую и существенную часть такого управления 5. Формы контроля могут быть различны, степень их развития— тоже; но без контроля за течением действия управление им — эта основная задача ориентировочной деятельности — оказалось бы вообще невозможным. В той или иной форме, с разной степенью обособления и развития контроль составляет неотъемлемый элемент психики как ориентировочной деятельности. Но в отличие от других действий, которые производят какой-нибудь продукт, деятельность контроля не имеет отдельного продукта. Она всегда направлена на то, что хотя бы частично уже существует, происходит, создано другими процессами; чтобы контролировать, нужно иметь, что контролировать. Допустим, что внимание представляет собой как раз такую функцию контроля — ведь это даже непосредственно в чем-то близко подходит к его обычному пониманию,— и сразу отпадет самое тяжелое из всех возражений против внимания как самостоятельной формы психической деятельности: отсутствие отдельного характерного продукта 6. Знание тех изменений, которые наступают при формировании умственных действий, устраняет второе возражение: невозможность указать на содержание процесса внимания. Теперь мы знаем, что, становясь умственным, действие неизбежно сокращается,., приближаясь к «действию по формуле». На участке сокращения происходит как бы непосредственный, ассоциативный переход между сохранившимися звеньями (в случае «действия по формуле» — от исходных данных к результату). Для наблюдателя этот переход лишен конкретного содержания, но в зависимости от того, как происходило, велось сокращение, он сопровождается или не сопровождается 1) пониманием сокращенного содержания и 2) переживанием своей активности. Если сокращение планомерно намечалось и усваивалось, такое понимание и переживание образуются и сохраняются. Но если сокращение действия происходило стихийно, то сокращенное содержание забывается, а с ним и ощущение своей активности при автоматизированном выполнении сокращенного действия. Как раз этот второй случай больше всего отвечает обычному порядку формирования психических функций. Если, далее, стихийно сложившаяся функция к тому же не имеет своего отдельного продукта и всегда протекает лишь в связи с какой-нибудь другой деятельностью, то для наблюдения (и внешнего и внутреннего) оно представляется лишь стороной последней — не как внимание, а как внимательность (при выполнении этой другой,, основной деятельности). 5 Через действие с вещами далее осуществляется и контроль за образом. 6 К такому пониманию внимания близко подходит признание за ним регулирую
Однако нужно подчеркнуть, что внимание — отдельный, конкретный акт внимания — образуется лишь тогда, когда действие контроля становится не только умственным, но и сокращенным. Процесс контроля, выполняемый как развернутая предметная деятельность, есть лишь то, что он есть, и отнюдь не является вниманием. Наоборот, он сам требует внимания, сложившегося к этому времени. Но когда новое действие контроля превращается в умственное и сокращенное, тогда и только тогда оно становится вниманием — новым, конкретным процессом внимания. Не всякий контроль есть внимание, но всякое внимание есть контроль 7. Еще одно соображение. Контроль лишь оценивает деятельность или ее результаты, а внимание их улучшает. Как же внимание, если оно является психическим контролем, дает не только оценку, но и улучшение деятельности? Это происходит благодаря тому, что контроль осуществляется с помощью критерия, меры, образца, а в психологии давно известно, что наличие такого образца — «предваряющего образа»,—создавая возможность более четкого сравнения и различения, ведет к гораздо лучшему распознаванию явлений (и отсюда — к другим положительным изменениям, столь характерным для внимания). Примеры этого общеизвестны: если предварительно дают прослушать камертон, то соответствующий звук легко выделяется из сложного аккорда, обертон — из сложного тона; если песня знакома, ее слова различаются даже в плохой передаче; если известно, ■о чем идет речь, то слова гораздо легче узнаются и в неразборчивом тексте, и т. д. Эти факты в свое время объясняли процессом апперцепции. Плохое, мнимое объяснение, но факты несомненны; они обширны и значительны. Значение их сводится к тому, что наличие предваряющего образа увеличивает различительную способность в отношении своего объекта и снижает ее в отношении всех остальных8. Так, применение образца объясняет два основных свойства внимания— его избирательность (которая, следовательно, вовсе не всегда выражает интерес) и положительное влияние на всякую деятельность, с которой оно связывается. И это — первая проверка гипотезы внимания как деятельности психического контроля. Вторая заключается в том, что, зная конкретное содержание деятельности внимания, мы можем ответить на трудный вопрос о природе произвольного внимания. До сих пор его отличительными признаками считают наличие цели (быть внимательным) и усилий (сохранить внимание на предмете, который сам его не вызывает). Но давно известно, что оба эти признака несостоятельны. Если мы достаточно знакомы с предметом, то независимо от интереса к нему внимание становится произвольным — без задачи и усилий быть внимательным. Да и вообще говоря, цель и усилия свидетельствуют лишь о том, чего мы хотим, но не о том, чего мы достигаем; если же усилия (быть внимательным) остаются безуспешными, то и внимание остается непроизвольным. Давно было сказано, что в целях выражаются наши потребности, наша зависимость от обстоятельств — наша несвобода. А усилия в известном отношении обратно пропорциональны действительным возможностям: чем больше оснащена деятельность, тем меньше усилии она требует. Л. С. Выготский был глубоко прав, когда пытался перенести в психологию, в частности в проблему внимания, общее положение марксизма о средствах деятельности как решающем условии и мериле произвольности. Но как понимать средства психической деятельности? Выготский считал ими знаки, опираясь на которые человек может сделать то, что не может выполнить без них. Однако способ использования знака еще должен быть понят, и естественно, что вскоре Выготский обнаружил, что знак выполняет роль психологического орудия лишь поскольку сам получает значение. Приравнивая значение знака к понятию, Выготский ставил развитие произвольности психических функций в зависимость от развития понятий, т. е. от понимания того, как следует действовать в данном случае. Но такое рационалистическое понимание произвольности означает неправомерное сужение проблемы: конечно, произвольность требует понимания обстоятельств, однако не всякое, даже
Естественный вопрос — как же тогда объяснить внимание к объекту до образования его отчетливого образа — разъясняется так: если это внимание непроизвольное, оно использует первые впечатления для контроля последующих; если это внимание произвольное, оно пользуется схемами, сложившимися в. прошлом опыте с объектами этого рода.
С точки зрения внимания как деятельности психического контроля вопрос о структуре произвольного внимания решается следующим образом: внимание произвольное есть внимание планомерное. Это — контроль за действием, выполняемый на основе заранее составленного плана, с помощью заранее установленных критериев и способов их применения. Наличие такого плана и критериев и способов действия позволяет вести контроль, а вместе с тем и направлять внимание на то, на что мы хотим его направить, а не на то, что «само бросается в- глаза». Конечно, такое планомерное действие по своему происхождению и природе является общественным и предполагает участие речи в его организации; оно возможно только у человека. Как всякое действие, приобретаемое по общественному образцу, оно сначала выступает и осваивается в своей внешней форме (когда оно, как уже сказано, еще не является вниманием) и лишь затем, в своей речевой форме переходит в умственный план и, сократившись, становится произвольным вниманием. Благодаря своей объективно-общественной организации и поэтапному усвоению такое действие не зависит ни от непосредственно привлекательных свойств объекта, ни от нарушающих влияний преходящих состояний самого человека — оно произвольно в собственном и полном смысле слова. Непроизвольное внимание тоже есть контроль, но контроль, идущий за тем, что в предмете или обстановке «само бросается в глаза». В этом случае в качестве мерила используется одна часть объекта для другой, начальный отрезок связи — для сопоставления с ее продолжением. И маршрут, и средства контроля здесь следуют не по заранее намеченному плану, и диктуются объектом, от которого в обоих этих отношениях мы целиком зависим,— и потому непроизвольны. Но содержание деятельности внимания и здесь составляет контроль — контроль за тем, что устанавливают зосприя-тие или мышление, память или чувство9. Конечно, трактовка внимания как отдельной формы психической деятельности пока остается гипотезой. Но помимо устранения теоретических трудностей ее 'преимущество в том, что она открывает возможность экспериментального исследования и проверки, возможность планомерного формирования внимания. Зная его со- 3 До сих пор в качестве непроизвольного внимания выступал и объяснялся только ориентировочный рефлекс — установка органов чувств на новый раздражитель, — а не та исследовательская деятельность в отношении нового объекта, контрольную часть которой, собственно, и составляет внимание. держание как деятельности и пути формирования последней как умственной деятельности, мы можем обучать вниманию, подобна всякой другой психической деятельности. А именно: чтобы сформировать новый прием произвольного внимания, мы должны наряду с основной деятельностью дать задание проверить (или проверять) ее, указать для этого критерий и приемы, общий путь и последовательность. Все это сначала нужно давать внешне, в материальной или материализованной форме10 — начинать следует не с внимания, а с организации контроля как определенного внешнего действия (которое лишь потом будет преобразовано в новый акт внимания). А дальше это действие контроля, путем поэтапной отработки11, доводится до умственной, обобщенной, сокращенной и автоматизированной формы, когда оно, собственно, и превращается в акт внимания, отвечающий новому заданию. Непроизвольное внимание ребенка тоже можно воспитывать таким, каким мы хотим его видеть. В этом случае мы не ставим ребенку специальной задачи контроля, но учим выполнять основную деятельность определенным способом: тщательно прослеживая ее отдельные звенья, сравнивая и различая их, их связи и отношения. Таким образом, не выделяя контроль в особую задачу,. мы включаем его в основную деятельность как способ ее осуществления. Тогда вместе с основной деятельностью происходит и формирование непроизвольного внимания. С точки зрения внимания как деятельности психического контроля все конкретные акты внимания — и произвольного и непроизвольного— являются результатом формирования новых умственных действий. И произвольное и непроизвольное внимание должны быть созданы, воспитаны в индивидуальном опыте; у человека — всегда по общественно данным образцам. При планомерном воспитании внимания такие образцы должны заранее отбираться как самые успешные и перспективные — для каждой сферы деятельности, на каждом уровне развития. И можно надеяться, что поскольку теперь, в общем, известны и содержание деятельности внимания, и порядок воспитания полноценных умственных действий, задача планомерного формирования все новых и новых актов внимания 10 Заслуживает быть отмеченным, что в изложении раздела о внимании (учебник «Психология», 1956) проф. А. А. Смирнов подчеркивает значение материальной формы действия на ранних стадиях формирования внимания и при его затруднениях. 11 На содержании и процедуре поэтапного формирования умственных действий,
12 Такое экспериментальное исследование было проведено Л. С. Кабыльницкой (закончено в 1970 г.); его краткое изложение дано в статье Л. С. Кабыльницкой, помещенной в сб.: «Управление познавательной деятельностью учащихся». Изд-во МГУ, 1972 (есть немецкий и итальянский переводы этой статьи). В этом исследовании испытуемыми были школьники III классов, отличавшиеся большим количеством характерных ошибок «по невниманию». Эти дети были обучены (по методу поэтапного формирования) контролю, сначала — в своих письменных работах, затем и в разных заданиях другого рода (тест Бурдона, ошибки в узорах, смысловые несуразности в картинках и рассказах). Когда этот контроль стал обобщенным, сокращенным и автоматизированным идеальным действием, наши выдающиеся по невнимательности испытуемые стали внимательными (что, естественно, сопровождалось значительным повышением их школьной успеваемости). Таким образом, исходная гипотеза — о внимании как идеальном и сокращенном действии контроля — получила свое первое экспериментальное подтверждение. Рубинштейн О (6 (18) июня 1 1960) — советски соф, профессор, АН СССР (с 1943 член АПН РСФС чил Одесский (Н верситет (1913). кафедры философ Одесского унив( 1942 гг. — зав. к Ленинградского ститута им. А. И 1950 гг. — зав. к Московского уни 1945 гг. — диреь хологии в Москв сектором психолс лософии АН ССС С. Л. Рубинштей: софским и метод мам психологии, проблемам созна] личности. С. Л. полнен ряд экспе]
С. Л. Руби Все процессы правлены на г воспринимаем или вообража -да! I результаты, можно с успехом использовать интеллектуальные тест& для характеристики реального состояния уровня развития некотор^ навыков. Тестирование может быть также полезным методом д^. изучения изменчивости поведения, развития навыков, что, в сво^ч очередь, является цредпосылкой для планомерного формированияц* в нужном направлении. Кроме того, предполагается, что тестовые оценки могут дат* количественный показатель степени неблагополучного для психике* ского развития социоэкономического статуса, а это может послужив толчком для исправления программ и методов обучения с цельф улучшения школьной успеваемости у детей из неблагополучной среды. \\ ^, М. Теплое СПОСОБНОСТИ, ТЕМПЕРАМЕНТ, ХАРАКТЕР СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ1 I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ # не предполагаю дать на последующих страницах общую теорию одаренности, не предполагаю даже развивать какой-либо гипотезы о том, какова должна быть эта теория. В настоящее время это еще неисполнимо. Мало того, всякие попытки сочинять теории или гипотезы о природе одаренности при том запасе положительных знаний, которыми мы сейчас обладаем, вредны. Общая теория должна создаваться в результате большой работы по изучению конкретных фактов и частных закономерностей. В исследовании одаренности советская психология только еще приступает к этой работе, и научно обработанный материал, которым мы располагаем, еще очень невелик. Одной из первоочередных задач советской психологии является в настоящее время серьезное фактическое изучение отдельных видов одаренности. Однако в интересах такого исследования необходимо прежде всего разобрать некоторые теоретические вопросы, не претендуя при этом на создание теории, а ставя лишь следующие цели: 1) выяснить хотя бы в самой приблизительной форме содержание тех основных понятий, которыми должно оперировать учение об одаренности, и 2) отстранить некоторые ошибочные точки зрения, касающиеся этих понятий, точки зрения, которые вследствие их распространенности и привычности могли бы повлиять на ход исследования. При установлении основных понятий учения об одаренности наиболее удобно исходить из понятия «способность». Три признака, как мне кажется, всегда заключаются в Понятии «способность» при употреблении его в практически разум-Пом контексте. Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о способностях там, где дело Идет о свойствах, в отношении которых все люди равны. В таком сМысле слово «способность» употребляется основоположниками Марксизма-ленинизма, когда они говорят: «От каждого по способностям...». , * Сокращенный текст статьи, впервые опубликованной в 1941 г. в «Ученых Списках Государственного научно-исследовательского института психологии», т. II. сихология индивидуальных различий
В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека. Нередко бывает, что педагог неудовлетворен работой ученика, хотя последний обнаруживает знания не меньшие, чем некоторые из его товарищей, успехи которых радуют самого педагога. Свое недовольство педагог мотивирует тем, что этот ученик работает недостаточно; при хорошей работе ученик, «принимая во внимание его способности», мог бы иметь гораздо больше знаний. Одинаковые знания и умения в области, например математики, для опытного учителя могут у разных учеников обозначать совершенно различное: у одного при блестящих способностях к математике они указывают на совершенно недостаточную работу, у другого они могут свидетельствовать о больших достижениях. Когда выдвигают молодого работника на какую-либо организационную работу и мотивируют это выдвижение «хорошими организационными способностями», то, конечно, не думают при этом, что обладать «организационными способностями» — значит обладать «организационными навыками и умениями». Дело обстоит как раз наоборот: мотивируя выдвижение молодого и пока еще неопытного] работника его «организационными способностями», предполагают/ что, хотя он, может быть, и не имеет еще необходимых навыков и умений, благодаря своим способностям он сможет быстро И успешно приобрести эти умения и навыки. Эти примеры показывают, что в жизни под способностями обычно имеют в виду такие индивидуальные особенности, которые не сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, но которые могут объяснить легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков. Исходу из сказанного, мы не можем принять то значение слова «способность», которое американскими и английскими психологами вкладывается в термин «аЪШ1у». Надо заметить, что в американской и английской психологической литературе наиболее распространены два термина, обычно переводимые на русский язык словом «способность»; каждый из этих терминов имеет свое значение. Термины эти — «аЫШу» и «саразНу». Вот как определяется значение их в одном из американских психологических словарей: «аЫШу» — умение выполнять действия, включающие в себя сложные координированные движения и разрешение умственных задач», или «то, что может быть сделано человеком на данном уровне обученное™ и развития»; «саразИу» — максимальные возможности индивидуума в отношении какой-либо функции, ограниченные его врож- денной конституцией и измеряемые теоретически тем пределом, до которого может быть развита эта функция при оптимальных условиях», или «возможности организма, определяемые и ограничиваемые его врождённой конституцией». Взаимоотношение между этими двумя понятиями очень четко сформулировано Сишором:- «Термин «саразйу» обозначает врожденные возможности; термин «аЫШу» употребляется для обозначения приобретенного умения использовать соответствующую «саразЛу». То, что обозначается словом «аЫШу», можно коротко обозначить как совокупность навыков и умений; из этого явствует, что «аЫШу» — это не «способность». Как отнестись к значению термина «саразйу»? Мы не можем понимать способности ц смысле саразШез, т. е. как врожденные возможности индивидуума, потому что способности мы определили как «индивидуально-психологические особенности человека», а эти последние по самому существу дела не могут быть врожденными. Врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, т. е. задатки, которые лежат в основе развития способностей, сами же 'способности всегда являются результатом развития. Таким образом, отвергнув понимание способностей как врожденных особенностей человека, мы, однако, нисколько не отвергаем тем самым того факта, что в основе развития способностей в большинстве случаев лежат некоторые врожденные особенности, задатки. Понятие «врожденный», выражаемое иногда и другими словами,—-«прирожденный», «природный», «данный от природы» и т. п., очень часто в практическом анализе связывается со способностями. Приведу для примера ряд совершенно случайно взятых цитат Вот записанные Эккерманом слова Гете: «Подлинный талант обладает врожденным пониманием форм, пропорций и красок, так что при некотором руководстве начинает быстро и правильно изображать все это» [8, с. 463]. (В этом и следующих абзацах курсив мой. — Б. Т.) Вот характеристика, данная Римским-Корсаковым молодому Балакиреву: «Отличный пианист, превосходный чтец нот, прекрасный импровизатор, от природы одаренный чувством правильной гармонии и голосоведения, он обладал частью самородной, частью приобретенной путем практики на собственных попытках, сочинительской техникой» [6, с. 47]. Вот несколько цитат, взятых из одного номера «Известий» от 28 сентября 1938 г., из статей, посвященных характеристикам лауреатов Первого всесоюзного конкурса дирижеров. Александр Гаук так пишет о Мелик-Пашаеве: «Обладая прекрасными природными дирижерскими данными, отличным слухом, памятью, врожденным вкусом, музыкальностью, темпераментом, умением углубленно и усидчиво работать, отлично владея роялем», Мелик-Пашаев в течение двух лет сдает на «отлично» все зачеты в объеме пятилетнего курса консерватории. Немного ниже в той же статье Гаука находим такие строки о Мравинском: «Мравинский за последние четыре года сделал крупные успехи и развил свои природные дирижерские данные». В соседней статье Лео Гинзбург так пишет о Константине
С точки зрения научной точности терминологии всем высказываниям такого рода можно предъявить один упрек: следует говорить о врожденности не самих способностей («понимание форм, пропорций и красок», «чувство поразительной гармонии» и т. п.), а лежащих в основе этих способностей задатков. Так именно, думается мне, психолог и должен понимать всякого рода утверждения о врожденности каких-либо способностей. Но было бы смешным педантизмом требовать, чтобы в живой речи говорили не о «врожденном чувстве гармонии», а о «врожденных задатках к чувству гармонии». Чтобы быть последовательным, надо было бы тогда воздержиэаться и от выражения «взошло солнце», заменяя его каким-нибудь более точным вроде: «Земля настолько повернулась вокруг своей оси, что с данной точки земной поверхности стало видно солнце». Важно лишь твердо установить, что во всех случаях мы разумеем врожденность не самих способностей, а лежащих в основе их развития задатков. Да едва ли кто-нибудь и в практическом словоупотреблении разумеет что-нибудь иное, говоря о врожденности той или другой способности. Едва ли кому-нибудь приходит в голову думать о «гармоническом чувстве» или «чутье к музыкальной форме», существующих уже'в момент рождения. Вероятно, всякий разумный человек представляет себе дело так, что с момента рождения существуют только задатки, предрасположения или еще что-нибудь в этом роде, на основе которых развивается чувство гармонии или чутье музыкальной формы. Очень важно также отметить, что, говоря о врожденных задатках, мы тем самым не говорим еще о наследственных задатках. Чрезвычайно широко распространена ошибка, заключающаяся в отождествлении этих двух понятий. Предполагается, что сказать слово «врожденный» все равно, что сказать «наследственный». Это, конечно, неправильно. Ведь рождению предшествует период утробного развития. Если даже доказано, что какой-нибудь задаток существует действительно «с первого дня жизни», то ведь из этого следует только то, что он или наследственный, или возникший в течение утробного периода развития. Конечно, это положение известно всякому, но почему-то принято молчаливо подразумевать, что вторая из этих возможностей — возникновение в течение утробного периода — представляет собой несущественную мелочь, почти бесконечно малую величину, которой вполне можно пренебречь. Слова «наследственность» и «наследственный» в психологической литературе нередко применяются не только- в тех случаях, когда имеются действительные основания предполагать, что данный признак получен наследственным путем от предков, но и тогда, когда хотят показать, что этот признак не есть прямой результат воспитания или обучения, или когда предполагают, что этот признак сводится к некоторым биологическим или физиологическим особенностям организма. Слово «наследственный» становится, таким образом, синонимом не только слову «врожденный», но и таким словам, как «биологический», «физиологический» и т. д. Такого рода нечеткость или невыдержанность терминологии имеет принципиальное значение. В термине «наследственный» содержится определенное объяснение факта, и поэтому-то употреблять этот термин следует с очень большой осторожностью, только там, где имеются серьезные основания выдвигать именно такое объяснение. Итак, понятие «врожденные задатки» ни в коем случае не тождественно понятию «наследственные задатки». Этим я вовсе не отрицаю законность последнего понятия. Я отрицаю лишь законность употребления его в тех случаях, где нет веских доказательств того, что данные задатки должны быть объяснены именно наследственностью. Далее, необходимо подчеркнуть, что способность по самому своему существу есть понятие динамическое. Способность существует только в движении, только в развитир. В психологическом плане нельзя говорить о способности, как она существует до начала своего развития, так же как нельзя говорить о способности, достигшей своего полного развития, закончившей свое развитие. Поэтому надо отказаться от имевшего у нас одно время широкое распространение штерновского разделения «предрасположений» (по его терминологии) на «свойства» и «задатки». «Свойство», по определению Штерна, «есть такое предрасположение, которое стремится неизменным образом реализовывать и далее некоторое наличное, относящееся к сущности лица целеполагание». Неважно, с какого момента предрасположение действует неизменно; как только возникла регулярность функционирования, ее причина есть «свойство». Примеры свойств: способность дышать, способность мыслить, виртуозность, но также и строение тела, цвет волос и т. д. (Любопытно было бы, кстати, узнать, какое «относящееся к сущности лица целеполагание» реализует цвет волос!) В данном контексте нас интересует не телеологическая фразеология Штерна, а то, что «неизменно» действующее предрасположение ничего общего с реально существующими человеческими способностями не имеет. Столь же негодно и штерновское понятие задатка, который он определяет как «такое предрасположение, которое направлено на будущее раскрытие еще не действительного целеполагания. Задаток в научном значении этого понятия есть анатомо-физио-логическая особенность человека, ни на что решительно не «направленная», а способность как психологическая категория не существует вовсе до начала «действительного целеполагания». Приняв^ что способность существует только в развитии, мы не Должны упускать из виду, что развитие это осуществляется не иначе как в процессе той или иной практической или теоретической деятельности. А отсюда следует, что способность не может возникнуть вне соответствующей конкретной деятельности. Только в ходе психологи-
Психология индивидуальных различий
Недоучет этих соображений привел, например, Лазурского к ошибочному разделению «всех психических проявлений человеческой личности» на «две большие группы», названные им эндопсихикой и экзопсихикой. Под первой он разумел проявления, «свидетельствующие о большем или меньшем развитии тех или иных психологических (ге$р. психофизиологических) элементов личности, а также о способах взаимного соединения этих элементов», проявления, выражающие «внутреннюю взаимосвязь психических элементов и функций, как бы внутренний механизм человеческой личности». К экзопсихике же он относил те проявления, содержание которых «определяется отношением личности к внешним событиям, к среде», «тем, как каждый человек реагирует на те или иные объекты, что он любит и ненавидит, чем интересуется и к чему равнодушен» [3, с. 9—10]. На самом деле никаких эндопсихических, т. е. чисто внутренних проявлений личности, содержание которых не определялось бы отношением человека к тем или иным объектам действительности, не существует. Если придерживаться терминологии Лазурского, то надо сказать, что решительно все психические проявления относятся к экзопсихике. Не в том дело, что «эндопсихика, — как писал Лазурский, — отражается в значительной степени также и на экзопсихических проявлениях» [там же, с. 10], а в том, что эндопсихика существует только в экзопсихических проявлениях, в них только и возникает. Не в том дело, что способности проявляются в деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности. Исходя из этого должен решаться и вопрос о взаимоотношении между способностями и склонностями. Несомненной заслугой Лазурского является то, что он сделал одним из центральных понятий своей психологии понятие отношения человека к тем или другим объектам действительности, понятие не только более широкое, но и более содержательное, чем понятие склонности. Большой интерес представляет его попытка положить это понятие в основу психологического исследования личности (см. ,3 и в особенности 4). Но принципиальная его ошибка и здесь заключается в стремлении рассматривать «отношения» и «наклонности» (последнее понятие у Лазурского приблизительно соответствует обычному понятию способности) независимо друг от друга. «Наклонность» — понятие центральное для эндопсихики, «отношение» —: для экзопсихики. Разрабатываются две независимые друг от друга программы исследования личности: для наклонностей [2] и для отношений [4]. На самом деле способности (наклонности, по Лазурскому) не существуют вне определенных отношений человека к действительности, так же как и отношения реализуются не иначе как через определенные способности. Развитие способностей, как и вообще всякое развитие, не протекает прямолинейно: его движущейся силой является борьба противоречий, поэтому на отдельных этапах развития вполне возможны противоречия между способностями и склонностями. Но из признания возможности таких противоречий вовсе не вытекает признание того, что склонности могут возникать и развиваться независимо от способностей или, наоборот, способности — независимо от склонностей. Выше я уже указывал, что способностями можно называть лишь такие индивидуально-психологические особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения той или другой деятельности. Однако не отдельные способности как тдковые непосредственно определяют возможность успешного выполнения какой-нибудь деятельности, а лишь то своеобразное сочетание этих способностей, которое характеризует данную личность. Одной из важнейших особенностей психики человека является возможность чрезвычайно широкой компенсации одних свойств другими, вследствие чего относительная слабость какой-нибудь одной способности вовсе не исключает возможности успешного выполнения даже такой деятельности, которая наиболее тесно связана с этой способностью. Недостающая способность может быть в очень широких пределах компенсирована другими, высокоразвитыми у данного человека. Надо признать заслугой ряда зарубежных психологов, и в первую очередь Штерна в его «Дифференциальной психологии», выдвижение и разработку понятия компенсации способностей и свойств. Именно вследствие широкой возможности компенсации обречены на неудачу всякие попытки свести, например, музыкальный талант, музыкальное дарование, музыкальность и тому подобное к какой-либо одной способности. Для иллюстрации этой мысли приведу один очень элементарный пример. Своеобразной музыкальной способностью является так называемый абсолютный слух, выражающийся в том, что лицо, обладающее этой способностью, может узнавать высоту отдельных звуков, не прибегая к сравнению их с другими звуками, высота которых известна. Имеются веские основания к тому, чтобы видеть в абсолютном слухе типичный пример «врожденной способности», т. е. способности, в основе которой лежат врожденные задатки. Однако можно и у лиц, не обладающих абсолютным слухом, выработать умение узнавать высоту отдельных звуков. Это не значит, что у этих лиц будет создан абсолютный слух, но это значит, что при отсутствии абсолютного слуха можно, опираясь на другие способности — относительный слух, тембровый слух и т. д., — выработать такое умение, которое в других случаях осуществляется на основе абсолютного слуха. Психические механизмы узнавания высоты звуков при настоящем абсолютном слухе и при специально выработанном, так называемом «псевдоабсолютном» слухе будут совершенно различными, но практические результаты могут в некоторых случаях быть совершенно одинаковыми. (0*
Исходя из этих соображений, мы не можем непосредственно переходить от отдельных способностей к вопросу о возможности успешного выполнения данным человеком той или другой деятельности. Этот переход может быть осуществлен только через другое более синтетическое понятие. Таким понятием и является «одаренность», понимаемая как то качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой деятельности. Своеобразие понятий «одаренность» и «способности» заключается в том, что свойства человека рассматриваются в них с точки зрения тех требований, которые ему предъявляет та или другая практическая деятельность2. Поэтому нельзя говорить об одаренности вообще. Можно говорить только об одаренности к чему-нибудь, к какой-нибудь деятельности. Это обстоятельство имеет особенно важное значение при рассмотрении вопроса о так называемой «общей одаренности», которого мы коснемся несколько позже. То соотнесение с конкретной практической деятельностью, которое с необходимостью содержится в самом понятии «одаренность», обусловливает исторический характер этого понятия. Понятие «одаренность» лишается смысла, если его рассматривать как биологическую категорию/Понимание одаренности существенно зависит от того, какая ценность придается тем или другим видам деятельности и что разумеется под «успешным» выполнением каждой конкретной деятельности. Приведем некоторые примеры. Известно, что, по мнению Канта, гений, т. е. высшая ступень одаренности, возможен лишь в искусстве, но не в науке и тем более не в практической деятельности [1, § 46, 47, 49]. Такое понимание одаренности, конечно, не случайно. В нем отразилось положение Германии в последние десятилетия XVIII в., в ту эпоху, когда писалась «Критика способности суждения». Оно было охарактеризовано Энгельсом следующим образом: «Все было скверно, и во всей стране господствовало общее недовольство. Ни образования, ни средств воздействия на сознание масс, ни свободы печати, ни общественного мнения, не было даже сколько-нибудь значительной торговли с другими странами — ничего, кроме подлости и себялюбия; весь народ был проникнут низким, раболепным, жалким торгашеским духом. Все прогнило, расшаталось, готово было рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благотворную перемену, потому что нация не имела в себе силы даже для того, чтобы убрать разлагающийся труп отживших учреждений. И только отечественная литература подавала надежду на лучшее будущее. Эта позорная в политическом и социальном отношении эпоха была в то же время великой эпохой немецкой литературы»3. Эта характеристика Энгельса делает совершенно понятным, почему в ту эпоху люди искали высокую одаренность только в художественной одаренности. Иное, хотя и столь же ограниченное, понимание гениальности, т. е. высшей ступени одаренности, мы находим у большинства психологов (в особенности немецких) начала XX в. То место, которое у Канта занимало искусство, заняла теперь наука, и высшую одаренность стали видеть только в научном мышлении. «Решающее для гения,— пишет Фребес,— разум; ни самая энергичная воля, ни величайшая утонченность чувств не образуют гениальности» [9, с. 219]. Аналогичное у Меймана: «Для нас теперь не подлежит никакому сомнению, что интеллигентность заключается только в способности мышления и суждения», и к этому прибавляется: «Под интеллигентностью мы понимаем самую высшую форму духовной работоспособности человека и наиболее ценную сторону интеллектуальной одаренности человека» [5, с. 175]. Такая эволюция взглядов от Канта до психологов начала XX в. отражает огромный расцвет науки, имевший место в течение XIX в., и оносительный упадок искусства, который с несомненностью можно констатировать, сравнивая буржуазное искусство конца XVIII — начала XX в. С другой стороны, и точка зрения Канта, и точка зрения буржуазных психологов начала XX в. в одинаковой степени несут печать капиталистического разделения труда, в первую очередь разрыва между умственным и физическим трудом. Высшие формы одаренности почитается возможным искать только в сфере «чисто умственных» видов труда. Другие виды деятельности рассматриваются как заведомо более «низкие». В этом отношении принципиально иное понимание одаренности имеет место у нас в Советском Союзе. Мы не знаем «низших» и «высших» видов деятельности. Каждый день приносит нам в самых различных областях деятельности новые и новые примеры вдохновенного творчества, в подлинном смысле слова «устанавливающего образцы» (а для Канта именно в этом был один из основных критериев гениальности). Переход от эксплуататорского строя к социализму впервые открыл высокую ценность самых различных видов человеческой деятельности и снял с понятия «одаренность» ту ограниченность, от которой не могли избавить его даже лучшие умы буржуазной науки. Существенное изменение претерпевает и содержание понятия того или другого специального вида одаренности в зависимости от того, каков в данную эпоху и в данной общественной формации критерий «успешного» выполнения соответствующей деятельности. Понятие «музыкальная одаренность» имеет, конечно, для нас существенно иное содержание, чем то, которое оно могло иметь
2 Эта сторона понятия «одаренность» весьма выпукло и совершенно правильно подчеркнута С. Л. Рубинштейном [7]. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 2, с. 561—562.
Итак, понятие «одаренность» не имеет смысла без соотнесения его с конкретными, исторически развивающимися формами общественно-трудовой практики. Отметим еще одно очень существенное обстоятельство. От одаренности зависит не успех в выполнении деятельности, а только возможность достижения этого успеха. Даже ограничиваясь психологической стороной вопроса, мы должны сказать, что для успешного выполнения деятельности требуется не только одаренность, т. е. наличие соответствующего сочетания способностей, но и обладание необходимыми навыками и умениями. Какую бы феноменальную музыкальную одаренность ни имел человек, но, если он не учился музыке и систематически не занимался музыкальной деятельностью, он не сможет выполнять функции оперного дирижера или эстрадного пианиста. В связи с этим надо решительно протестовать против отождествления одаренности с «высотой психического развития», отождествления, широко распространенного в буржуазной психологии. С другой стороны, исходя из нашего понимания одаренности, я считаю необходимым отказаться от употребления терминов «предрасположение» или «диспозиция», которыми нередко обозначаются способности и задатки. Эти термины, являясь основными й системе Штерна, получили очень широкое распространение в психологической литературе, У Штерна понятие «предрасположение» (018розШоп) прямо вытекает из основных принципов его учения. «Предрасположениями» он называет частные проявления энтелехии личности, т. е. ее «тенденции к способности реализовать самое себя или систему собственных целей». Понятие «предрасположение» является, следовательно, для Штерна насквозь телеологическим. Ярко идеалистический характер его становится особенно очевидным, если принять во внимание, что и врожденные задатки — и эти последние даже в особенности — для Штерна являются только проявлениями «тенденции личности реализовать систему собственных целей». Иначе говоря, будущая личность человека, еще не родившегося, уже «реализует систему собственных целей», . Такой смысл имеет понятие «предрасположение» в первоисточнике. Конечно, многие авторы, употреблявшие это понятие, были очень далеки от подобной мистики. Но и у них с этим словом связывался смысловой оттенок, который нельзя не признать нежелательным, толкающим на неверный путь все учение об одаренности. Даже в советской литературе иногда говорилось об одаренности как о «предрасположении к определенным видам деятельности». Подобного рода формулировки нежелательны потому, что они, как мне кажется, придают понятиям «одаренность», «задатки», «способности» оттенок чего-то фаталистически предопределяющего будущую деятельность человека. Имеется большое различие между следующими двумя положениями: «данный человек по своей одаренности имеет возможность весьма успешно выполнять такие-то виды деятельности» и «данный человек своей одаренностью предрасположен к таким-то видам деятельности». Одаренность не является единственным фактором, определяющим выбор деятельности (а в классовом обществе она у огромного большинства и вовсе не влияет на этот выбор), как не является она и единственным фактором, определяющим успешность выполнения деятельности. ЛИТЕРАТУРА 1. К а н т Э. Критика способности суждения. Спб., 1898. 2. ЛазурскийА. Ф, Очерк науки о характерах. Изд. 3-е. Пг., 1917. 3. Л а з у р с к и й А. Ф. Классификация личностей. Пг., 1921. 4. Л а з у р с к и й А. Ф,, Франк С. Л. Программа исследования личности в ее отношениях к среде.— Русская школа, 1912, № 1,2. 5. Мейман Э. Интеллигентность и воля. 1917. 6. Римски й-К о р с а к о в Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. Изд. 3-е. М., 1926. 7. Рубинштейне. Л. Основы общей психологии. М., 1935. 8. Эккерман И. П. Разговоры С Гете. М.; Л., 1934.
Лейтес Натан Семенович (род. 26 июня 1918) — советский психолог и психофизиолог, доктор психологических наук, старший научный сотрудник (до 1978) НИИ общей и педагогической психологии Академии педагогических наук СССР. По окончании филологического факультета Московского университета (1945) и аспирантуры Института психологии АПН РСФСР работал в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. Известен своими работами по проблемам индивидуально-психологических различий и возрастной психологии. В К С Лейтес последние годы теоретически и экспериментально исследует роль активности и ее саморегуляции в процессах общего умственного развития и формирования способностей, а также проблему склонностей и вопросы психодиагностики. Сочинения: Об умственной одаренности. М., 1960; Умственные способности и возраст. М., 1971; К вопросу о динамической стороне психологической активности.— В кн.: Проблемы дифференциальной психологии, т. IX. М., 1977. Литература: К 60-летию со дня рождения Н. С. Лейтеса.— Вопр. психологии, 1978, № 5. было своего рода реакцией на неумеренные восторги по поводу достижений этих детей и имело реальные основания: разочаро Бывающие спады, наблюдаемые в ходе развития таких детей, очень заметные случаи несоответствия между «заявленным» в детстве и достигаемым в годы зрелости. Однако наряду с фактами, обнаруживающими у детей с очень быстрым умственным ростом последующее замедление темпа и выравнивание способностей, известно и другое: немало выдающихся людей в самых разных областях деятельности были в детстве рано созревшими. В последние десятилетия наметился переход к более обоснованному и одновременно более оптимистическому отношению к детям с ранним расцветом умственных сил. Имеющиеся в психологии данные свидетельствуют, что такие дети в большинстве своем, вопреки распространенному представлению, не отличаются болезненностью или склонностью к нервным срывам (и не отстают в физическом развитии). Их ранние успехи в занятиях и объем деятельности, как правило, не могут быть объяснены каким-нибудь особым нажимом со стороны воспитателей: необычный подъем умственных сил нередко происходит даже в неблагоприятных условиях и вопреки желанию старших. Судя по всему, опережение сверстников в умственном отношении, при прочих равных условиях, может указывать на полноценный и перспективный ход развития ребенка. Дети с необычно ранними умственными достижениями встречаются в каждом поколении и представляют большой научный интерес. Сама жизнь в этих случаях привлекает внимание к психологическому феномену, который в яркой и острой форме демонстрирует процесс становления способностей. Проявления детей с ранним подъемом умственных сил как бы обнажают ряд существенных психологических проблем: связь детской одаренности и возрастных особенностей; значение склонностей для развития способностей; своеобразие детского интеллекта. Имеющиеся сейчас сведения о таких детях позволяют подойти к рассмотрению каждой из этих проблем. Признаком одаренности ребенка чаще всего служит несоответствие развития его ума обычному уровню умственного развития детей его возраста, т. е. опережение возраста. Тем самым признается внутренняя близость, взаимозависимость возрастных изменений и проявлений способностей. Подходя к проблеме «детские способности и возраст», важно иметь в виду накапливающиеся в психологии данные о возрастной чувствительности, т. е. о той особой отзывчивости на окружающее, которая по-своему характеризует каждый детский возраст. Неодинаковость возрастной чувствительности, изменение ее уровня и направленности означают, что каждый период детства имеет свои специфические неповторимые внутренние условия развития и что с
Известно, например, что в определенные годы детства наблюдается повышенная восприимчивость к усвоению языка, на котором происходит общение ребенка с окружающими; в дошкольные и ранние школьные годы обнаруживается особая яркость, острота образных впечатлений, богатство воображения, проявляющиеся, в частности, в творческих играх; в годы наступления ранней юности — подъем нравственной чувствительности и активности обобщающего, теоретического мышления и т. п. Тем самым переход от возраста к возрасту означает не просто рост, обогащение психических свойств, но и их подлинное преобразование — затухание, прекращение действия одних особенностей и возникновение новых. Другими словами, по мере продвижения ребенка по «возрастной лестнице» происходит качественно новое и в некоторых отношениях одностороннее усиление возможностей развития, которое вместе с тем ведет к общему подъему сил, ' Таким образом, возрастные особенности как бы подготавливают и временно сохраняют благоприятные условия для становления тех и#ш иных сторон умственных способностей, и даже можно сказать, что возрастные особенности выступают как составная часть, или компоненты, самих детских способностей. Не только возрастающий с годами уровень умственного развития, но и сами внутренние условия этого развития имеют отношение к формированию и росту способностей. Правомерно говорить о возрастных предпосылках способностей, пли возрастных факторах одаренности, имея в виду обусловленные возрастом повышенные возможности развития психики в тех или иных направлениях. Стремительный подъем способностей у ребенка, приближение его умственных показателей к показателям, свойственным более старшим возрастам, равно как и снижение, большее или меньшее, темпа умственного развития в последующие годы можно рассматривать как подтверждение того, что проявление детской одаренности существенно обусловлены именно возрастными, т. е. в определенную пору жизни возникающими и в какой-то мере преходящими особенностями. Именно в годы детства (в отличие от зрелости) внутренние условия возрастного развития являются одновременно и факторами формирования способностей. Как это ни парадоксально звучит, дети как бы одареннее взрослых. Предпосылки способностей, специфичные для отдельных детских возрастов, эти -своеобразные «временные состояния», выражающие ту или иную сторону возможностей возрастного развития,— психологическая реальность, позволяющая многое понять и в индивидуальных различиях между детьми по способностям. Индивидуальный уровень и индивидуальное своеобразие способностей растущего человека не являются чем-то внешним по отношению к его возрастным особенностям: многое зависит от степени выраженности у ребенка тех или иных возрастных свойств, от различий в темпе и ритме приближения к зрелости. Возрастные особенности не проходят бесследно: они не только вытесняют друг друга, но и закрепляются в личности, у одного ребенка в большей мере, у другого — в меньшей. Неодинаковость,неравномерность возрастн |



 всегда остается какое-то внутреннее несогласие с ним и в пользу такого несогласия можно было бы привести ряд соображений о странном и тяжелом положении, в которое ставит нас такое понимание внимания, но пока соображениям противостоят факты, а у психологии нет других источников фактов, кроме наблюдения (внешнего, за телесными проявлениями внимания, и внутреннего, за ■ переживанием внимания), указанные выше факты сохраняют полное значение, и отрицание внимания как отдельной формы психической деятельности представляется и неизбежным и оправданным.
всегда остается какое-то внутреннее несогласие с ним и в пользу такого несогласия можно было бы привести ряд соображений о странном и тяжелом положении, в которое ставит нас такое понимание внимания, но пока соображениям противостоят факты, а у психологии нет других источников фактов, кроме наблюдения (внешнего, за телесными проявлениями внимания, и внутреннего, за ■ переживанием внимания), указанные выше факты сохраняют полное значение, и отрицание внимания как отдельной формы психической деятельности представляется и неизбежным и оправданным.


 Стихийно сложившаяся деятельность контроля, становясь умственной и сокращенной, с естественной необходимостью должна представляться лишенной содержания, а с ним и самостоятельности,— стороной или свойством какой-нибудь другой деятельности (которую она контролирует). Это как раз и отвечает наблюдаемой картине внимания. Отсюда ясно, что указанные выше два факта, играющие такую отрицательную роль в учении о внимании, на самом деле имеют очень ограниченное значение: они выражают положение, каким оно представляется во внутреннем и внешнем наблюдении, выражают ограниченность психологической науки данными «непосредственного наблюдения».
Стихийно сложившаяся деятельность контроля, становясь умственной и сокращенной, с естественной необходимостью должна представляться лишенной содержания, а с ним и самостоятельности,— стороной или свойством какой-нибудь другой деятельности (которую она контролирует). Это как раз и отвечает наблюдаемой картине внимания. Отсюда ясно, что указанные выше два факта, играющие такую отрицательную роль в учении о внимании, на самом деле имеют очень ограниченное значение: они выражают положение, каким оно представляется во внутреннем и внешнем наблюдении, выражают ограниченность психологической науки данными «непосредственного наблюдения». Мы должны с благодарностью вспомнить Ламеттри, который первым, насколько мне известно, ясно указал на внимание как деятельность контроля; ему он придавал особое значение в душевной жизни. Но Ламеттри не развивал систематически такое понимание внимания, и так как оно выражало функциональную, а не «эмпирическую» точку зрения на психические явления, оно было позабыто последующей эмпирической физиологической психологией.
Мы должны с благодарностью вспомнить Ламеттри, который первым, насколько мне известно, ясно указал на внимание как деятельность контроля; ему он придавал особое значение в душевной жизни. Но Ламеттри не развивал систематически такое понимание внимания, и так как оно выражало функциональную, а не «эмпирическую» точку зрения на психические явления, оно было позабыто последующей эмпирической физиологической психологией.

 правильное их понимание равнозначно произвольности — нужно еще иметь возможность действовать согласно такому пониманию и располагать необходимыми для этого средствами. Вопрос о средствах психической деятельности человека не сводится к пониманию, и решение этого вопроса у Выготского не может считаться окончательным.
правильное их понимание равнозначно произвольности — нужно еще иметь возможность действовать согласно такому пониманию и располагать необходимыми для этого средствами. Вопрос о средствах психической деятельности человека не сводится к пониманию, и решение этого вопроса у Выготского не может считаться окончательным.
 уже не составит принципиальной трудности. Теперь решающее слово должно быть предоставлено экспериментальному исследованию 12.
уже не составит принципиальной трудности. Теперь решающее слово должно быть предоставлено экспериментальному исследованию 12.
 Во-вторых, способностями называют не всякие вообще инди-видуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. Такие свойства, как; например, вспыльчивость, вялость, медлительность, которые, несомненно, являются индивидуальными цсобенностями некоторых людей, обычно не называются способностями, потому что не рассматриваются как условия успешности выполнения каких-либо деятельностей.
Во-вторых, способностями называют не всякие вообще инди-видуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. Такие свойства, как; например, вспыльчивость, вялость, медлительность, которые, несомненно, являются индивидуальными цсобенностями некоторых людей, обычно не называются способностями, потому что не рассматриваются как условия успешности выполнения каких-либо деятельностей.

 Иванове: «Он схватывал налету. С первых же шагов обнаружилось необычайное природное чутье к музыкальной форме, понимание приемов и методов музыкального воздействия на слушателей. Все это, наряду с большим вкусом и прирожденной музыкальной восприимчивостью, было неожиданно, если учесть его общий культурный уровень н те годы». Подобного рода цитаты можно было бы приводить в неограниченном количестве.
Иванове: «Он схватывал налету. С первых же шагов обнаружилось необычайное природное чутье к музыкальной форме, понимание приемов и методов музыкального воздействия на слушателей. Все это, наряду с большим вкусом и прирожденной музыкальной восприимчивостью, было неожиданно, если учесть его общий культурный уровень н те годы». Подобного рода цитаты можно было бы приводить в неограниченном количестве. ческого анализа мы различаем их друг от друга. Нельзя понимать дело так, что способность существует до того, как началась соответствующая деятельность, и только используется в этой последней. Абсолютный слух как способность не существует у ребенка до того, как он впервые стал перед задачей узнавать высоту ззука. До этого существовал только задаток как анатомо-физиологйческий факт.
ческого анализа мы различаем их друг от друга. Нельзя понимать дело так, что способность существует до того, как началась соответствующая деятельность, и только используется в этой последней. Абсолютный слух как способность не существует у ребенка до того, как он впервые стал перед задачей узнавать высоту ззука. До этого существовал только задаток как анатомо-физиологйческий факт.
 Далее, надо помнить, что; отдельные, способности не просто сосуществуют рядом друг с другом и независимо друг от друга. Каждая способность изменяется, приобретает качественно иной характер в зависимости от наличия и степени развития других способностей.
Далее, надо помнить, что; отдельные, способности не просто сосуществуют рядом друг с другом и независимо друг от друга. Каждая способность изменяется, приобретает качественно иной характер в зависимости от наличия и степени развития других способностей.
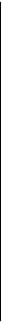 у народов, не знавших цной музыки, кроме одноголосой. Историческое развитие музыки влечет за собой и изменение музыкальной одаренности.
у народов, не знавших цной музыки, кроме одноголосой. Историческое развитие музыки влечет за собой и изменение музыкальной одаренности.






 возрастом происходит не только увеличение умственных сил, но и их ограничение, а то и утрата некоторых ценных особенностей пройденных возрастных периодов.
возрастом происходит не только увеличение умственных сил, но и их ограничение, а то и утрата некоторых ценных особенностей пройденных возрастных периодов.