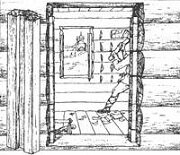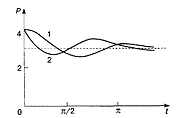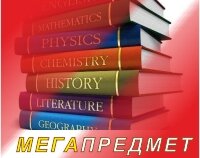 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.
| Мужеству советских воинов в Афганистане посвящается 8 страница
Прохоров шел по родному селу. Сердце колотилось, и все же казалось ему, что из всех окон смотрят на него десятки глаз. Но на улице было пустынно: ни детей, ни женщин, ни мужиков. Только один раз пропылил на велосипеде незнакомый парень. – Здравствуй, Кирилловна! – заметил он сгорбленную старуху у калитки. Та не ответила, быстро перекрестилась. – Чего крестишься... – буркнул Прохоров. – Не видишь, живой. Прохоров перекинул из руки в руку чемодан и зашагал дальше. Впереди виднелась его хата. Пугающая мысль пришла в голову: а вдруг не ждут, вдруг не предупредили и не дошла телеграмма?.. Он остановился, почувствовал, как заломило в груди. «Нет, не может быть... Не может». Он поставил чемодан на землю и огляделся. Было тихо. Степан снял панаму, вытер взмокший лоб и тут заметил, как дрогнула в окошке занавеска, и за ней мелькнуло лицо матери. Степан охнул растерянно, схватил чемодан, рванулся вперед, тут же выбежала мать, он бросился к ней, она повисла у него на шее. «Сынок, сынок мой родной», – повторяла она сквозь рыдания. Степан чувствовал, как текли по его небритым щекам слезы, он продолжал держать в руке чемодан и обнимал маму другой рукой. Так они долго стояли на пустынной улице. Мать что-то спрашивала, но не слушала его ответов, а он говорил что-то совсем невпопад, сейчас это были просто слова, звуки, мать и сын не вникали в их смысл, желали лишь одного: слышать родной голос, живой, невредимый, не забытый после долгой разлуки. Через полчаса прикатил на велосипеде запыхавшийся отец, и они снова обнимались, но уже втроем. Никогда они не были так близки и дороги друг другу. Потом сели рядышком, отец поторопился закрыть дверь, а мать взяла Степу за руку и не выпускала, смотрела на сына и все вздыхала, вытирала глаза передником. Степан сбивчиво, повторяясь, рассказывал про госпиталь, про дорогу домой, старательно обходил все страшное и нелепое, что случилось с ним. А мать все равно плакала, гладила черные с проседью волосы Степана, отец же больше молчал, дымил «Беломором», временами хмурился и глубоко вздыхал. Наконец своим привычным повелительным басом скомандовал накрывать на стол, мать виновато спохватилась, засуетилась, забегала. А отец придвинулся поближе к сыну. – Страшно там было, сынок? – Страшно, батя. – И убивать приходилось? – И убивать... – Да-а... – протянул он задумчиво. – Мать постарела от всего этого. Ночами почти не спит. Боялся, совсем худо с ней будет. Степан вдруг понял, что совершенно не заметил перемен в матери, не вгляделся в привычные ее черты, будто прошедшие два года касались только его самого, а жизнь родителей как бы приостановилась. Он пристальней посмотрел на отца и увидел, что и отец постарел, что потемнело его лицо, под глазами нависли тяжелые серые мешки, а лоб и шею избороздили твердые морщины. – Мать до остатнего дня не верила, что ты погиб. Гроб хотели открыть, а лейтенант нам: никак нельзя. А мать все рвется, дай, говорит, побью стекло. А мне лейтенант сказал: жара там, сами понимаете, что с телом станет, – продолжал тихо отец, поглядывая искоса на мать, которая продолжала накрывать на стол. – Так и не верила, все в окно глядела, кто идет на колонку воды пить... Два дни опять приезжает этот лейтенант. Первый раз, коли был и все рассказал, мать в обморок повалилась, голова повела, а тут, значит, снова его бачит. – Так он только два дни тому был? – удивился Степан. – Да. Казав, что добирался долго. Во. А мы и не знаем: чи верить тут, чи не. Документ якой-то из вашей части сует. Там усе расписано, как и чего, мол, ошибка произошла. Из-за письма, что в кармане у Иванова нашли. Во як бывает! А тут и почтарка от тебя телеграмму приносит. – Та что ты гомонишь! Телеграмма учора была! – А, ну да, учора, – поправился отец, – все попуталось. Я его пытаю: что со Степкой? А он: все в порядку, выписывают. Ну, посадили его, покормили, а сами ходим, как чокнутые, томимся и боимся, ты ж понимаешь, боимся радоваться! Ну а потом – и гомонить тошно. Открывает он свой чемодан, достает якую-то штуку заграничную. «Это, значит, вам магнитофон от воинов-интернационалистов». Ну, мать тут не вынесла, накричала на него: уходи подобру-поздорову со своей ерундовиной. – Я ему, сынок, казала тогда: як ты можешь, бесстыжие твои глаза, мне, матери, подарки совать! Мы люди простые, небогатые. Но покупать нас не надо. – Она села, вытерла руки о передник. – Знаешь ты хоть, что такое сына схоронить? Бессовестные вы все люди! Ошибка! Срам-то якой! Як теперь Ивановым в глаза дивиться? Выскочил он со своей игрушкой, похватал вещи, бачу, пошел к Ивановым. А я уж не пошла туды. Гомонят, там его чуть не прибили. А як же? Сын погиб. А схоронили, значит, еще раньше. Уже в земле, с хатой рядом! Ой, страх-то якой, чи бывает такое на свете божьем? Она замолчала, покачивая головой, и Степан впервые увидел, какими странными могут быть глаза матери: круглые и пустые, будто в них на мгновение полностью исчезли все мысли. – Письмо я написала в ЦК, – вдруг, очнувшись, сказала она. – Пожалилась, чи можно с людьми такое творить? – Зря, – мрачно буркнул Степан. – Поторопилась ты, мама. – Эх, сынок, сынок, – вздохнула обиженно она. – Як бы ты знал... – Эх, мама, мама, – в тон ей ответил Степан. – Да если бы ты знала, что там было! Если б ты побачила, что эти зверюги с пацанами нашими сделали! Матка родная не узнает, не то что этот лейтенант. Эх, да что там говорить. Не знать бы этого, не видеть и не слышать. И не чипай, мать, наших афганских... Покалеченные мы все, застреленные... Есть, конечно, и у нас определенные сволочи... Ну, да ладно, уже не будем. Они молча сели за стол, отец разлил водку по стаканам. – За тебя, сынку, за то, что вернулся. – Видно, есть Господь, если почув меня. – Для кого есть, а для кого нет, – тихо сказал Степан. – Вы скажите мне, что дальше было, что Ивановы? – Страшное дело было, вот что я тебе скажу, сыночек мой. – Мать понизила голос. – Пошел твой лейтенант к ним. И чую, заголосила Прасковья... Люди сказывали, повалилась, глаза закатила, так машину вызывали, в райцентр, в больницу повезли. Ох, дела-делишки... Ну, тут от колхоза пришли к нему, а он с города вернулся, она там осталась. Венок привезли. А ён-то и гомонит: давай выкапывать, будем хоронить в другом месте. Насилу-то уговорили не трогать могилку. А табличку сторож снял да нам принес: сыну, говорит, отдашь, сто лет теперь жить будет. А мне ее и в руки страшно брать, поклади, говорю, на грубку. Пошли мы на кладбище. Народ уже стоит, Иванов сам-один, жонка-то у больнице, братья его тут же. Председатель выступил, еще кто-то говорил. Новую пирамидку поставили, у тебя-то маленькая стояла... Ой, господи, что я говорю... Привезли новую, большую. Могилку сверху землицей черной присыпали, вроде как свежая стала. Иванов нас увидел: «Что, радуетесь?» – спрашивает. «Господь с тобой, как можно?» – говорю ему. А он сам черный весь, трусится. И люди смотрят, шепчутся... Хотели лейтенанта еще о тебе спросить, да он сразу утек от греха подальше. Все думала, чего ты письмо с ним не передал. – Не смог, мама. Я и не видел его. – А я все мучаюсь, може, пошуткувал лейтенант, чи ненормальный якой, набрехал все... Ох, и время ненадежное. Сейчас, кто из армии придеть, то домой не хочут, шукают работы где-либо. Дома остается який-либо тупица, что ему больше деться негде. А тут работа да навоз один... Кому такое надо? Все стариков бросають, у город едуть. А я городской работой ладно и не интересуюсь. Лучше будем с батькой в своей халупе жить. Завалимся – клопот большой! – Она говорила и все искоса поглядывала на Степана. Но сын никак не реагировал. – Ну, да ладно, слухай, что дале было. Как темно стало, пошел Григорий откапывать. Лопату взял, фонарик, топор – все как есть. И уже богато земли повыбрасывал, да тут сторож наш прибег, бачит, такое страшное дело творится. «Что жи ты надумал, – кричит на него. – Розуму у тебя нет!» А Гришка на его с лопатой: уйди, не чипай меня, сам хочу побачить, чи правда это мой Женька захоронен. А сторож: «Ты ж подумай, скольки времени прошло. Как можно теперь покойника тревожить?» Бросил он тут лопату, заплакал... Закопали вдвох ту яму, пирамидку снова поставили... Охо-хо, дела-делишки. Во як бывает, сынку. Страшно все это... Кто казал бы такое – в глаза плюнула. Терпение надо, больше ничого. Ой, не могу. Хоть трошки тебе подвезло, что оттудова ты вылез. Афганистан этый заразный! На яку сатану он нам? Он же Америке только польза. А они все зовуть и зовуть туда молодняк. Ой, не могу! Як-то неправильно поступают у нас. Неправильно. На убой – молодых хлопчиков... – Да уж. Такое случилось, что теперь не жить, а молча удивляться, – отозвался Степан. Он встал, нашел на грубке медную табличку.
ПРОХОРОВ Степан Васильевич 4 марта 1965 – 31 мая 1985
– А почему не написано, что погиб в Афганистане? – вдруг резко спросил он. – Лежит, значит, закопанный дурень двадцати лет, и не ясно, отчего же он помер: от водки ли, от запора, а может, грибами отравился? – Что ты такое гомонишь, сынку? Судьба тебе вышла живым остаться, а ты Бога гневишь... – Что ты, мать, все про Бога? Или верующей стала? Мать осеклась, замолчала. А отец выдавил: – Ты, Степан, не шуми. Не по своей воле тебя хоронили. Командирам своим спасибо скажи. А про Афганистан не разрешили написать. Не положено, говорят. Степан скрипнул зубами, промолчал. Он тяжело опустил голову, обхватил ее руками. В комнате повисла тягостная тишина. – Завтра к Зойке поеду... – Не езжай, сынок! – испуганно встрепенулась мать. Степан метнул колючий взгляд: – С чего это вдруг? – Замуж она вышла у Брянску. Дней десять как. – Как – замуж?! – Он задохнулся, сник, сразу понял, что все это правда... Почувствовал снова, как цепенеет сердце и будто земля уходит из-под ног. – Ладно... Ладно, Зоечка. Быстро же ты... – Не думай о ней, – кашлянул отец. – И давай за Женю, за друга твоего выпьем. Степан молча хватанул стакан, порывисто встал, пошел к дверям. – Куда ты? – вскочила за ним мать. – На могилу пойду... Во дворе он остановился, посмотрел на сад, на прохладную тропинку, исчезающую в кустах, по которой так любил пробираться в детстве, задевая лицом за холодные влажные листья, отодвигать нависшие ветви с яблоками. Но сейчас он равнодушно окинул сад взглядом, открыл калитку, нарвал цветов в палисаднике. С этой охапкой он пошел по селу, свернул у магазина, спустился вниз по тропке. Впереди показались знакомые березки, ветер тянул их за верхушки, они покачивались, отвечали легким светлым шумом. За деревцами он не разглядел, а сейчас увидел Григория Иванова. Сидел он, обхватив голенища своих сапог, рядом валялась истертая кепка. Степану показалось, что Женькин отец плачет. Он хотел было повернуть назад, но Григорий обернулся. Степан увидел его небритое темное лицо и красные глаза-щелочки. «Какой он старый», – невольно подумал Прохоров. Он молча подошел к могиле. – Можно, Григорий Иванович? Тот не ответил, и Степан стал раскладывать цветы на могиле. Странное чувство он испытывал: будто находился на своих похоронах. И пирамидка стояла, как знак его смерти. Понимал, что абсурд, и все же не уверен был: вроде не Женька закопан тут. Ведь страшное случилось не здесь, а там, где все не так, жизнь наизнанку и живых превращают в мертвых. Там он остался, Женька! – Уходи отсюда, слышь? – Зря вы так, Григорий Иванович... – тихо сказал Прохоров и повернулся, чтобы уйти. – Стой. Сядь рядом. Степан повиновался, аккуратно опустился на землю рядом с могилой. У фанерной пирамидки стоял еловый венок с лентами. Рядом – поставлена фанерная табличка, сделанная наспех:
ИВАНОВ Евгений Григорьевич
Ни даты, ничего. Будто тайная надежда сдержала руку, чтобы не ставила пока последнюю точку на этом маленьком знаке, обрывающем отпущенное человеку время. Так они долго сидели рядом: отец – не отец, сын – не сын, два обожженных судьбой человека, временные попутчики одной скорби. Правда, скорбел каждый по-своему, потому что у одного из них уже ничего не проглядывало впереди. И Прохоров понимал это и ничего не мог поделать, да и никто не мог бы, потому что такая уж случилась правда: нестарые отцы хоронили своих сыновей. В его соображении предстала вся земля, которая приняла в себя сыновей. Черными звездочками вспыхнули на ее просторах свежие могилы – и погибших его взвода, и многих других; уже потускневшие от времени звездочки продолжали гореть черным светом, и тут и там напоминая о неуснувшей своей боли. «Кто же даст ответ, за что лишили жизни его сына?» – думал Прохоров. Отец Иванова по-прежнему сидел, уткнув голову в колени, коричневая шея обнажилась, а поседевшие космы волос словно пытались прикрыть ее незащищенность. И сам себе сказал: «Никто не даст ответа. Все будет ложью». – Ты скажи, – вдруг тихо и хрипло спросил Григорий Иванович, – это он здесь похоронен или кто другой? – Он, Григорий Иванович, – выдавил Степан и опустил голову. – Женька на моих глазах погиб. Я ему до боя письмо дал свое прочитать. С этим письмом его и нашли. – Знаю... – Женька спас меня, утащил под скалу и камнями прикрыл. Ранили меня в самом начале... Потом я сознание потерял, а когда очнулся, он уже убит был. Все убиты были. Ну, а потом душманы издеваться начали: стреляли в голову, руки резали... – И Женьку? – И его тоже. – А ты отлежался, значит?.. – Отлежался... – вздохнул Степан. – Что я мог? Разве что подорваться гранатой... – А не врешь? – Нет. – Ладно, Степка, иди. И не сердись на меня, старика. – Григорий Иванович... – Иди, говорю. Потом как-нибудь придешь ко мне. А сейчас иди. Он снова опустил голову и обхватил колени. Степан заметил, как дрожали его руки. У каждого путника своя дорога, думал Прохоров. Ему досталась одна, а по другой навеки ушел его взвод, чтоб снова возвратиться в душную ночь, но только – в его памяти. Нужен ли был столь дальний путь в неведомые края, где отцы не могли защитить своих сыновей, уберечь от пуль? Он не знал. Уверен был лишь в том, что за пройденное стыдиться не будет: он ведь честно свое отшагал. Он вспомнил дорогу над пропастью, до которой ему оставался один шаг, и путь домой – в горячке и бреду пополам с явью. Он вспомнил ночь после гибели взвода – то, что так жаждал хоть на время забыть – чтобы выжить. Он думал: если б в службе его был всего лишь один, последний месяц, и его хватило б, чтоб сказать: я сполна познал Афган... Кто был – не сможет выбросить из памяти и сердца выгоревшие палатки, кровавые рассветы, горькую, как полынник, тоску и тех, кто в цинках вернулся на родину, но, по сути, навсегда остался здесь, в черных горах под равнодушным лазоревым небом. Своей дорогой шел третий взвод горной роты капитана Боева. И сейчас, в эту самую минуту, их печальные и просветленные лики проплывают в безмолвии гор; они идут сомкнутым строем, над вершинами, и последняя шеренга все так же не заполнена, наверное, для того, чтобы мы, живые, помнили о них. Кто их осудит, что не смогли донести светлые огоньки своих душ, а оставили лишь невыплаканную боль по чужой земле? Кто их восславит? Наверное, время, ибо не зарастают следы... |